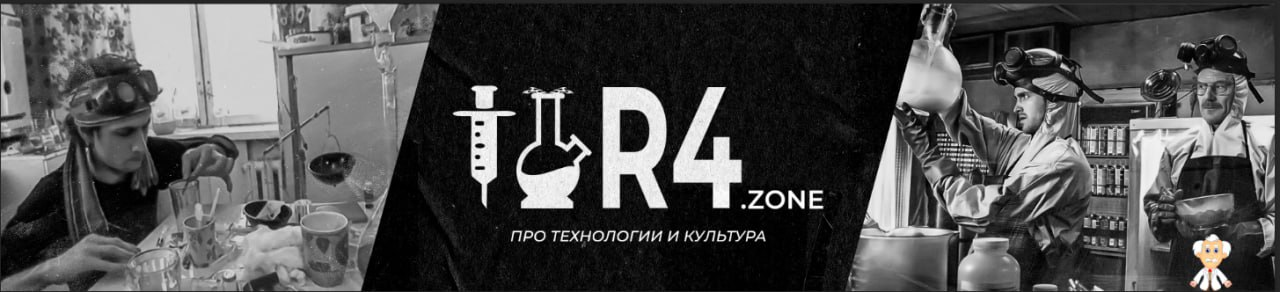Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Вторая Мировая Война (другой взгляд)
- Автор темы Arkan
- Дата начала
Красноармеец угощает папиросами пленных немцев. Курская дуга. 1943 год.

И не делили мы тогда на Людей на Хохлов,Москалей,Чурок и Хачей так как расизм с которым мы боролись А мы были один большой народПосмотреть вложение 28463Мелитон Варламович Кантария.Младший сержант РККА, вместе с сержантом М. А. Егоровым водрузивший Знамя Победы на крыше здания Рейхстага. Герой Советского Союза.Посмотреть вложение 28464
Евжик
Местный
- Регистрация
- 16 Апр 2020
- Сообщения
- 1,995
- Предпочтения
- Не Употребляю
Все вопросы к евреям - они придумали делить на и не...И не делили мы тогда Людей на ...
Поговаривают, что сама "идея" делить "по рождению", берет корни в иудаизме - типа первый в мире нацизм.
Я, так-то,хз... мож майя тоже были фашистами, но они вымерли - нам теперь не узнать....
Это не фашизм это нацизмВсе вопросы к евреям - они придумали делить на и не...
Поговаривают, что сама "идея" делить "по рождению", берет корни в иудаизме - типа первый в мире нацизм.
Я, так-то,хз... мож майя тоже были фашистами, но они вымерли - нам теперь не узнать....
Евжик
Местный
- Регистрация
- 16 Апр 2020
- Сообщения
- 1,995
- Предпочтения
- Не Употребляю
Что есть фашизм в твоем понимании?Это не фашизм это нацизм
Немцев называли и продолжают (в смысле тогдашних) фашистами, хотя они националисты-социалисты, и ничего, не икают ни "мы" ни "они".
А так, ты безусловно прав - но только, если придираться.
"Самая изумительная из всех военных легенд, являющая блеск литературной изобретательности и мастерство исполнения, равно как и богатейший символизм, тоже не лишена военной фантастичности. Это истинный шедевр. Согласно слухам, где-то между двумя линиями окопов находится группа полубезумных дезертиров из разных армий, союзных и вражеских, численностью в батальон (иногда говорили – в полк); они скрываются под землёй, в брошенных окопах, блиндажах и туннелях, живут в мире между собой, по ночам вылезают на поверхность – обирают трупы, добывают пропитание и воду. Эта орда дикарей долгие годы жила под землёй и в итоге стала столь многочисленной, неуправляемой и неисправимой, что их пришлось истребить.
Осберт Ситвел прекрасно знал эту историю. По его словам, среди дезертиров были французы, итальянцы, немцы, австрийцы, австралийцы, англичане и канадцы; они жили – «и по крайне мере они были живы! – в пещерах и углублениях под некоторыми участками передовых окопов… Считалось, что они выползали из своих убежищ после каждого из бесчисленных и безрезультатных сражений, чтобы отнять у умирающих их скудные пожитки… Кем были эти бородатые фигуры, что бродили вокруг в лохмотьях, в перештопанных гимнастёрках… были ли они мифом, порождённым страданиями раненых бойцов, плодами боли, лишений и беззащитности, - или они существовали на самом деле?.. Трудно сказать. В любом случае, почти бойцы верили в эту легенду; считалось также, что Генеральный штаб не смог придумать, как разобраться с этими бандитами до конца войны, а потом предполагается отравить их газом».
В некоторых вариантах эти нелюди выглядят ещё страшнее. Ардерн Бимен вспоминает, как на поле сражения возле Соммы, там, где «лабиринты траншей и их ходов тянулись на несчётные мили», ему встретилась спасательная команда за работой:
«Они предупредили нас: если вы действительно хотите идти дальше, не позволяйте никому отбиваться, держитесь группой, ибо Голгофа эта кишит дикарями, английскими, французскими, австралийскими и немецкими дезертирами, которые обитают там под землёй, как упыри среди разлагающихся мертвецов, а по ночам выходят на поверхность, чтобы мародёрствовать и убивать».
Подробности, которые приводит Бимен, достаточно красноречивы:
«По ночам, сказал один офицер, они часто слышали, как к рычанию псов-трупоедов примешиваются нечеловеческие вопли и звук ружейных выстрелов, которые доносятся из этих жутких пустошей».
Завершает он рассказ виньеткой, которая по тону своему скорее соответствует стилистике Второй, а не Первой мировой войны:
«Однажды… спасательная команда оставила им приманку: корзину с продуктами, табаком и бутылкой виски. На следующее утро они обнаружили, что приманка не тронута, а в корзине лежит записка: “Не пройдёт!”
Это очень напоминает по духу Джозефа Хеллера или Томаса Пинчона. Пинчон, собственно, использовал легенду об одичавших дезертирах в «Радуге тяготения», адаптировав её к реалиям Второй мировой. Дикие упыри преобразовались в диких псов, которые сразу после окончания войны буквально оккупируют одну из немецких деревень:
«Одну деревеньку в Мекленбурге захватили армейские собаки… поголовно натасканные без предупреждения убивать всех, кроме того человека, который их натаскал. Однако дрессировщики уже мертвы или потерялись. Собаки выдвигались стаями… Они эдакими Рин-Тин-Тинами врывались на склады снабжения и растаскивали сухие пайки, мороженые гамбургеры, ящики шоколадных батончиков <…> Возможно, когда-нибудь “G-5” пришлёт регулярные войска».
Одна из причин смыслового богатства легенды об одичавших дезертирах заключается в том, что она объединяет и совмещает максимально возможное количество эмоционального значимых мотивов. С одной стороны, перед нами вымышленное зеркальное отображение, причём крайне язвительное, реальной повседневной окопной жизни, в которой, к примеру, именно ночь была временем «деятельности». С другой стороны, она апеллирует ко всеобщему чувству стыда за то, что раненых бросали между двумя линиями окопов мучиться долгими ночами. Она претворяет в объективированные драматические образы всеобщую фантазию – этакую мечту Гекльберри Финна – об открытом неповиновении власть предержащим. Она проводит мысль, что немцы и англичане, по сути, не враги; у них общий враг – война. И наконец, она чётко и пронзительно передаёт чувство, от которого в окопах было не отвязаться: что здешняя «нормальная» жизнь есть, по сути, дикость и безумие.
Действительно, только безумие или близость к нему могли заставить людей, живших в первой четверти двадцатого века, приписывать талисманам способность оборонять людей от пуль и осколков. И тем не менее у каждого солдата и офицера на передовой был свой амулет; каждый карман гимнастёрки был обращён в реликварий. Приносящие удачу монетки, пуговицы, засушенные цветы, издания Нового Завета, камушки из дома, медальончики с изображением святого Христофора и святого Георгия, детские куколки и плюшевые медвежата, стихи или отрывки из Писания, переписанные на листок и повешенные на шею на манер оберега, огненный опал Сэссуна – потребность была настолько велика, что никакой талисман не казался слишком абсурдным. Иногда удача зависела не от оберега в кармане, а от поступков, совершённых и несовершённых. Роберт Грейвз утверждает, что считал сохранение д евственности необходимым условием своего выживания на фронте, и именно своему воздержанию приписывает исключительную удачу: он оставался в живых много месяцев, тогда как средний срок жизни новобранца на передовой был всего шесть недель. Филипп Гиббс познакомился с полковником из Северных стаффордширцев, который верил, что способен силой воли отводить от себя летящий металл. Вот что он сказал Гиббсу:
- Я наделён мистической силой. Ничто не навредит мне, пока эта сила, проистекающая из веры, при мне. Это вопрос безоговорочной убеждённости во власти духа над материей. Я способен уцелеть под любым обстрелом, поскольку моей силы воли хватает на то, чтобы отклонять в сторону осколочные снаряды и пулемётные очереди. По сути, они вынуждены подчиняться моей воле. Они бессильны перед разумом человека, непосредственно связанного со Вселенским Духом…
«Он говорил спокойно и трезво, - добавляет Гиббс, - совершенно будничным тоном. Я пришёл к выводу, что он безумен»".
Из книги Пола Фассела "Великая война и современная память"

Осберт Ситвел прекрасно знал эту историю. По его словам, среди дезертиров были французы, итальянцы, немцы, австрийцы, австралийцы, англичане и канадцы; они жили – «и по крайне мере они были живы! – в пещерах и углублениях под некоторыми участками передовых окопов… Считалось, что они выползали из своих убежищ после каждого из бесчисленных и безрезультатных сражений, чтобы отнять у умирающих их скудные пожитки… Кем были эти бородатые фигуры, что бродили вокруг в лохмотьях, в перештопанных гимнастёрках… были ли они мифом, порождённым страданиями раненых бойцов, плодами боли, лишений и беззащитности, - или они существовали на самом деле?.. Трудно сказать. В любом случае, почти бойцы верили в эту легенду; считалось также, что Генеральный штаб не смог придумать, как разобраться с этими бандитами до конца войны, а потом предполагается отравить их газом».
В некоторых вариантах эти нелюди выглядят ещё страшнее. Ардерн Бимен вспоминает, как на поле сражения возле Соммы, там, где «лабиринты траншей и их ходов тянулись на несчётные мили», ему встретилась спасательная команда за работой:
«Они предупредили нас: если вы действительно хотите идти дальше, не позволяйте никому отбиваться, держитесь группой, ибо Голгофа эта кишит дикарями, английскими, французскими, австралийскими и немецкими дезертирами, которые обитают там под землёй, как упыри среди разлагающихся мертвецов, а по ночам выходят на поверхность, чтобы мародёрствовать и убивать».
Подробности, которые приводит Бимен, достаточно красноречивы:
«По ночам, сказал один офицер, они часто слышали, как к рычанию псов-трупоедов примешиваются нечеловеческие вопли и звук ружейных выстрелов, которые доносятся из этих жутких пустошей».
Завершает он рассказ виньеткой, которая по тону своему скорее соответствует стилистике Второй, а не Первой мировой войны:
«Однажды… спасательная команда оставила им приманку: корзину с продуктами, табаком и бутылкой виски. На следующее утро они обнаружили, что приманка не тронута, а в корзине лежит записка: “Не пройдёт!”
Это очень напоминает по духу Джозефа Хеллера или Томаса Пинчона. Пинчон, собственно, использовал легенду об одичавших дезертирах в «Радуге тяготения», адаптировав её к реалиям Второй мировой. Дикие упыри преобразовались в диких псов, которые сразу после окончания войны буквально оккупируют одну из немецких деревень:
«Одну деревеньку в Мекленбурге захватили армейские собаки… поголовно натасканные без предупреждения убивать всех, кроме того человека, который их натаскал. Однако дрессировщики уже мертвы или потерялись. Собаки выдвигались стаями… Они эдакими Рин-Тин-Тинами врывались на склады снабжения и растаскивали сухие пайки, мороженые гамбургеры, ящики шоколадных батончиков <…> Возможно, когда-нибудь “G-5” пришлёт регулярные войска».
Одна из причин смыслового богатства легенды об одичавших дезертирах заключается в том, что она объединяет и совмещает максимально возможное количество эмоционального значимых мотивов. С одной стороны, перед нами вымышленное зеркальное отображение, причём крайне язвительное, реальной повседневной окопной жизни, в которой, к примеру, именно ночь была временем «деятельности». С другой стороны, она апеллирует ко всеобщему чувству стыда за то, что раненых бросали между двумя линиями окопов мучиться долгими ночами. Она претворяет в объективированные драматические образы всеобщую фантазию – этакую мечту Гекльберри Финна – об открытом неповиновении власть предержащим. Она проводит мысль, что немцы и англичане, по сути, не враги; у них общий враг – война. И наконец, она чётко и пронзительно передаёт чувство, от которого в окопах было не отвязаться: что здешняя «нормальная» жизнь есть, по сути, дикость и безумие.
Действительно, только безумие или близость к нему могли заставить людей, живших в первой четверти двадцатого века, приписывать талисманам способность оборонять людей от пуль и осколков. И тем не менее у каждого солдата и офицера на передовой был свой амулет; каждый карман гимнастёрки был обращён в реликварий. Приносящие удачу монетки, пуговицы, засушенные цветы, издания Нового Завета, камушки из дома, медальончики с изображением святого Христофора и святого Георгия, детские куколки и плюшевые медвежата, стихи или отрывки из Писания, переписанные на листок и повешенные на шею на манер оберега, огненный опал Сэссуна – потребность была настолько велика, что никакой талисман не казался слишком абсурдным. Иногда удача зависела не от оберега в кармане, а от поступков, совершённых и несовершённых. Роберт Грейвз утверждает, что считал сохранение д евственности необходимым условием своего выживания на фронте, и именно своему воздержанию приписывает исключительную удачу: он оставался в живых много месяцев, тогда как средний срок жизни новобранца на передовой был всего шесть недель. Филипп Гиббс познакомился с полковником из Северных стаффордширцев, который верил, что способен силой воли отводить от себя летящий металл. Вот что он сказал Гиббсу:
- Я наделён мистической силой. Ничто не навредит мне, пока эта сила, проистекающая из веры, при мне. Это вопрос безоговорочной убеждённости во власти духа над материей. Я способен уцелеть под любым обстрелом, поскольку моей силы воли хватает на то, чтобы отклонять в сторону осколочные снаряды и пулемётные очереди. По сути, они вынуждены подчиняться моей воле. Они бессильны перед разумом человека, непосредственно связанного со Вселенским Духом…
«Он говорил спокойно и трезво, - добавляет Гиббс, - совершенно будничным тоном. Я пришёл к выводу, что он безумен»".
Из книги Пола Фассела "Великая война и современная память"
Сколько заводов вывез СССР из Германии после Победы
Данные, зафиксированные Главным трофейным управлением СССР, гласят: в рамках репарации Советский Союз вывез из Германии 2885 заводов. Послевоенная советская промышленность с помощью трофейного оборудования начала выпускать продукцию, которой до этого в производстве СССР просто не было.
Синтетическая новинка
Репарация касалась не только восточной оккупационной зоны Германии, но и западной, подконтрольной союзникам. Оттуда Советскому Союзу и Польше полагалось передать порядка 300 заводов. Но наши западные партнеры разными способами ставили палки в колеса продвижению этого процесса. Из 39 предприятий, представлявших особую важность, к началу весны 1948 года демонтировали только 30 заводов. Было вывезено оборудование всех германских заводов по производству отравляющих веществ, находившихся в зоне оккупации СССР, а сами предприятия были уничтожены.
Благодаря вывезенному из Германии промышленному оборудованию и немецким технологиям в СССР начали производство различных синтетических материалов: нейлона, перлона, искусственного шелка, более качественного, чем натуральный, оппанола и многого другого, чего отечественная промышленность до Второй мировой войны не изготавливала. Например, раньше в СССР не производили бумажный шпагат, это стало возможным только после введение в действие фабрик, работавших на импортном оборудовании.
Вывозили не только военные
«Экспроприацию» германских заводов и оборудования осуществляли не только и не столько промышленники и военспецы – на них приходится немногим более 200 предприятий, вывезенных в СССР по репарации. Свыше 60 производственных объектов издательской деятельности забрало себе профильное советское министерство, более 50 предприятий отошло МВД СССР, десятки достались Минздраву, Министерству просвещения.
К примеру, Комитет по делам искусств обзавелся уникальной фабрикой грампластинок, располагавшейся в Бабельсберге (пригород Берлина). Общий вес оборудования – свыше 400 тонн. Академией наук СССР была присмотрена для себя астрономическая обсерватория Университета имени Гумбольта, научные работники вывезли из Германии университетское оборудование вуза города Грейфсвальд, десятки тонн архивных документов, хранившихся в потсдамском рейхсархиве. Работники Госкомитета по физкультуре и спорту занимались демонтажом и переправкой в Союз плавательных бассейнов, а сотрудники Ленинской библиотеки – сбором рукописей и книг.
Когда начали вывозить
На самом деле репарацией СССР начал заниматься еще до окончания Великой Отечественной – первые партии демонтированного германского оборудования поступили в Советский Союз в начале весны 1945 года. В их числе были станки карбидного завода из Бейтена (Верхняя Силезия), отправленные на сталинградский химзавод, оборудование химического завода города Аммендорф, включая его котельную и электростанцию.
Весной 1945 года в СССР поступило оборудование немецкого завода, производившего танковые бронекорпусы. В июне на Сталинградском тракторном заводе начался монтаж машин, вывезенных с двух лесозаводов из Белау и ряда австрийских предприятий. На СТЗ доставлялось оборудование для производства танков, самоходок – всего этого было так много, что потребовалась прокладка дополнительных транспортных коммуникаций. Не получалось даже своевременно и в полном объеме учитывать количество поступающих трофеев.
Что чаще всего подлежало репарации
Для разрушенной войной страны большое значение имели машины, используемые в стройиндустрии, и собственно стройматериалы. Все это в значительных объемах вывозилось из Германии. Деревообрабатывающие станки и прочее оборудование с германских лесозаводов для восстановления корпусов того же СТЗ, технологические и энергетические механизмы кирпичных заводов, техника, необходимая в производстве цемента, кирпичей, кровельного железа и шифера. Старались вывезти всю производственную инфраструктуру, чтобы на месте потом можно было собрать предприятие, как конструктор.
На немецком оборудовании в СССР после войны ткали ковры, до 80-х годов работала Центральная телефонная станция столицы. Разбирали и вывозили железнодорожные линии, в Советский Союз отправлялись паровозы и тепловозы, вагоностроительные и паровозовагоноремонтные заводы, Даже КГБ для своей секретной деятельности долгое время использовал германские «прослушки».
(c) Василий Павлов

Данные, зафиксированные Главным трофейным управлением СССР, гласят: в рамках репарации Советский Союз вывез из Германии 2885 заводов. Послевоенная советская промышленность с помощью трофейного оборудования начала выпускать продукцию, которой до этого в производстве СССР просто не было.
Синтетическая новинка
Репарация касалась не только восточной оккупационной зоны Германии, но и западной, подконтрольной союзникам. Оттуда Советскому Союзу и Польше полагалось передать порядка 300 заводов. Но наши западные партнеры разными способами ставили палки в колеса продвижению этого процесса. Из 39 предприятий, представлявших особую важность, к началу весны 1948 года демонтировали только 30 заводов. Было вывезено оборудование всех германских заводов по производству отравляющих веществ, находившихся в зоне оккупации СССР, а сами предприятия были уничтожены.
Благодаря вывезенному из Германии промышленному оборудованию и немецким технологиям в СССР начали производство различных синтетических материалов: нейлона, перлона, искусственного шелка, более качественного, чем натуральный, оппанола и многого другого, чего отечественная промышленность до Второй мировой войны не изготавливала. Например, раньше в СССР не производили бумажный шпагат, это стало возможным только после введение в действие фабрик, работавших на импортном оборудовании.
Вывозили не только военные
«Экспроприацию» германских заводов и оборудования осуществляли не только и не столько промышленники и военспецы – на них приходится немногим более 200 предприятий, вывезенных в СССР по репарации. Свыше 60 производственных объектов издательской деятельности забрало себе профильное советское министерство, более 50 предприятий отошло МВД СССР, десятки достались Минздраву, Министерству просвещения.
К примеру, Комитет по делам искусств обзавелся уникальной фабрикой грампластинок, располагавшейся в Бабельсберге (пригород Берлина). Общий вес оборудования – свыше 400 тонн. Академией наук СССР была присмотрена для себя астрономическая обсерватория Университета имени Гумбольта, научные работники вывезли из Германии университетское оборудование вуза города Грейфсвальд, десятки тонн архивных документов, хранившихся в потсдамском рейхсархиве. Работники Госкомитета по физкультуре и спорту занимались демонтажом и переправкой в Союз плавательных бассейнов, а сотрудники Ленинской библиотеки – сбором рукописей и книг.
Когда начали вывозить
На самом деле репарацией СССР начал заниматься еще до окончания Великой Отечественной – первые партии демонтированного германского оборудования поступили в Советский Союз в начале весны 1945 года. В их числе были станки карбидного завода из Бейтена (Верхняя Силезия), отправленные на сталинградский химзавод, оборудование химического завода города Аммендорф, включая его котельную и электростанцию.
Весной 1945 года в СССР поступило оборудование немецкого завода, производившего танковые бронекорпусы. В июне на Сталинградском тракторном заводе начался монтаж машин, вывезенных с двух лесозаводов из Белау и ряда австрийских предприятий. На СТЗ доставлялось оборудование для производства танков, самоходок – всего этого было так много, что потребовалась прокладка дополнительных транспортных коммуникаций. Не получалось даже своевременно и в полном объеме учитывать количество поступающих трофеев.
Что чаще всего подлежало репарации
Для разрушенной войной страны большое значение имели машины, используемые в стройиндустрии, и собственно стройматериалы. Все это в значительных объемах вывозилось из Германии. Деревообрабатывающие станки и прочее оборудование с германских лесозаводов для восстановления корпусов того же СТЗ, технологические и энергетические механизмы кирпичных заводов, техника, необходимая в производстве цемента, кирпичей, кровельного железа и шифера. Старались вывезти всю производственную инфраструктуру, чтобы на месте потом можно было собрать предприятие, как конструктор.
На немецком оборудовании в СССР после войны ткали ковры, до 80-х годов работала Центральная телефонная станция столицы. Разбирали и вывозили железнодорожные линии, в Советский Союз отправлялись паровозы и тепловозы, вагоностроительные и паровозовагоноремонтные заводы, Даже КГБ для своей секретной деятельности долгое время использовал германские «прослушки».
(c) Василий Павлов
Солдаты Вермахта охраняют офис Coca-Cola в Берлине, 1941 год.

- Регистрация
- 18 Ноя 2010
- Сообщения
- 1,646
а мне кажется все немцы были геями. Подумайте для чего столько мужиков пять лет вместе в казармах и окопах жили?
И сразу получается, что это была первая война воинов света и православия против Гейропы и гомосексуализма
И сразу получается, что это была первая война воинов света и православия против Гейропы и гомосексуализма
Евжик
Местный
- Регистрация
- 16 Апр 2020
- Сообщения
- 1,995
- Предпочтения
- Не Употребляю
Не, тогда еще немцы были правильными - Адик, вообще, гомофоб был лютый! Это сейчас они скатились....а мне кажется все немцы были геями. Подумайте для чего столько мужиков пять лет вместе в казармах и окопах жили?
И сразу получается, что это была первая война воинов света и православия против Гейропы и гомосексуализма
всегда
Местный
- Регистрация
- 21 Апр 2016
- Сообщения
- 3,988
посмотри фильм Висконти -Гибель богов , там все подробно показано , их гейские вечеринки и расстрел штурмовиков - геев... Да и фильм сам по себе шедевральный.а мне кажется все немцы были геями. Подумайте для чего столько мужиков пять лет вместе в казармах и окопах жили?
И сразу получается, что это была первая война воинов света и православия против Гейропы и гомосексуализма
- Регистрация
- 18 Ноя 2010
- Сообщения
- 1,646
не, точно геи. А Адик маскировался, наверняка Гиммлеру за щеку давал
Кока Колу им уже никто не продавал в 41-м, а фабрика была экспроприирована. Фанту должны были охранять.
Напиток появился на свет в 1940 году в Германии в годы Второй мировой войны. Из-за наложенного антигитлеровской коалицией эмбарго была приостановлена поставка в Германию сиропа, необходимого для производства Кока-Колы. Тогда Макс Кайт, который отвечал за работу подразделения Кока-Колы в Германии в годы Второй Мировой войны, принял решение создать новый продукт на основе ингредиентов, которые были доступны в Германии в это время. Основными компонентами нового напитка стал яблочный жмых (отходы производства сидра) и молочная сыворотка (побочный продукт сыроваренного производства). Получившийся напиток был жёлтого цвета и сильно отличался по вкусу от апельсиновой «Фанты», которая сейчас наиболее распространена[1].
Головное подразделение Coca-Cola Company приобрело права на торговую марку Fanta в 1960 году.
Напиток появился на свет в 1940 году в Германии в годы Второй мировой войны. Из-за наложенного антигитлеровской коалицией эмбарго была приостановлена поставка в Германию сиропа, необходимого для производства Кока-Колы. Тогда Макс Кайт, который отвечал за работу подразделения Кока-Колы в Германии в годы Второй Мировой войны, принял решение создать новый продукт на основе ингредиентов, которые были доступны в Германии в это время. Основными компонентами нового напитка стал яблочный жмых (отходы производства сидра) и молочная сыворотка (побочный продукт сыроваренного производства). Получившийся напиток был жёлтого цвета и сильно отличался по вкусу от апельсиновой «Фанты», которая сейчас наиболее распространена[1].
Головное подразделение Coca-Cola Company приобрело права на торговую марку Fanta в 1960 году.
Прохожий
Юзер
- Регистрация
- 24 Дек 2014
- Сообщения
- 285
- Адрес
- Поле чудес - Люберцы
- Предпочтения
- Употребляю Тяжелые В/В
Жуткое сравнение случаев применения смертной казни к своим солдатам во Второй Мировой войне
США: 146
Франция: 102
Британия: 40
Германия: 7810
СССР: 157593
(Это только трибуналы, т.е. не включает в себя расстрелы загрядотрядами, СМЕРШ итп)

США: 146
Франция: 102
Британия: 40
Германия: 7810
СССР: 157593
(Это только трибуналы, т.е. не включает в себя расстрелы загрядотрядами, СМЕРШ итп)
Mandalorian
comrade
- Регистрация
- 27 Июн 2020
- Сообщения
- 15,778
ты б ссылку давал а то от матерьялов новой газеты даже Власов в ахуеСША: 146
Франция: 102
Британия: 40
Германия: 7810
СССР: 157593
Новая Газета это один из малочисленных источников, которому можно веритьот матерьялов новой газеты даже Власов в ахуе
Еще, пожалуй, https://meduza.io/
О себе лучше расскажи - чем дышишь, как воспринимаешь))
ЗЫ хотя, да, ссылка необходима
Прохожий
Юзер
- Регистрация
- 24 Дек 2014
- Сообщения
- 285
- Адрес
- Поле чудес - Люберцы
- Предпочтения
- Употребляю Тяжелые В/В
авторты б ссылку давал а то от матерьялов новой газеты даже Власов в ахуе

Муранов, Анатолий Иванович — Википедия
статья
Деятельность военных трибуналов во время великой отечественной войны 1941 - 1945 гг.
Основной причиной выбора темы научной статьи послужило то обстоятельство, что до сих пор нет единого взгляда на деятельность военно-судебных орга...
wiselawyer.ru